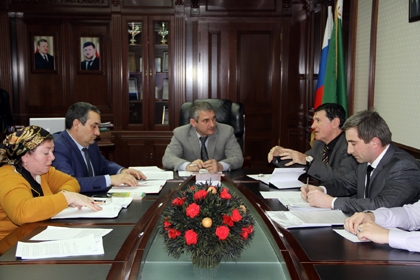Зарождение традиционной культуры тюркских племен
В этнографической науке большое место занимает так называемый ретроспективный метод анализа источников традиционной народной культуры. Взгляд на историческое прошлое через специфические черты современной культуры действительно дает важные исторические сведения.
Применяя этот метод для определения возможных истоков традиционной культуры тюркских народов, мы обнаруживаем, что для многих из них особенно характерны такие ведущие черты материальной и духовной культуры, как:
■ захоронение умерших в курганах, деревянных срубах и колодах;
■ сопровождение покойников жертвенными конями;
■ употребление в пищу конины, кумыса, айрана и т. п.;
■ проживание в войлочных шатрах (юртах), изготовление войлочных изделий (предметов одежды, быта, убранства и т. п.);
■ ведение подвижного (кочевого) образа жизни с разведением преимущественно мелкого скота, лошадей и т. п.
Приступая к поиску хронологических и географических истоков этих специфических особенностей, нетрудно убедиться в том, что на Алтае, который принято считать древней родиной тюркских народов, для этих истоков нет ни археологических, ни иных признаков. Сочетание всех имеющихся научных факторов приводит к выводу, что древнюю прародину тюркских народов и их культуры надо искать в других регионах. Таким регионом оказывается Междуречье Волги и Урала (Итиля и Джаика, или Яика). Здесь на рубеже IV-III тыс. до н. э. зародилась так называемая курганная, или ямная, археологическая культура, в которой сочетаются все перечисленные специфические особенности культуры тюркских народов. Надо отметить, что эти черты не характерны для культуры ни одного из индоевропейских народов ни в древности, ни в настоящее время. А этот факт имеет большое и принципиальное научное значение при изучении историко-культурного наследия тюркских народов, в т. ч. и карачаево — балкарского народа.
Расселение и древние контакты пратюркских племен
В начале III тыс. до н. э. сформировавшаяся в междуречье Волги и Урала ямная культура с курганным обрядом захоронения стала постепенно распространяться в прилегающие районы. В своем продвижении на север она вступает в контакт с культурой племен финно-угорской группы — с предками марийцев, мордвин и др. В направлении на запад эта культура смешивается с культурой древнейших праславянских племен на берегах Днепра, Днестра, Дуная и их притоков.
Мощное расселение курганной (ямной) культуры наблюдается в восточных и юго-восточных направлениях — в глубь Средней Азии, Казахстана, Алтайского нагорья и на Юг Туркмении. В этих областях зарождается очень близкая к ямной и этногенетически однородная афанасьевская археологическая культура, получившая свое название от наименования горы «Афанасьево» близ Минусинской котловины. В своем продвижении на восток древние ямники-европеоиды постепенно смешивались и приобретали вид монголоидных типов, хотя еще в VIII в. до н. э. на Горном Алтае встречались достаточно «чистые» европеоидные представители. Чем дальше в глубь Азии, тем все больше с течением веков монголоидные черты отражались на облике древних европеоидных ямников. Через Приаральские степи и Юг Туркмении древние пратюрки-ямники проникали в соседние области Ирана и Афганистана. Там они смешивались и вступали в этнокультурные контакты с ираноязычными племенами и народами (ил. 1).
В процессе расселения древние ямники вступали не только в культурный, но и в языковой контакт со многими племенами, говорившими на древнеиндийском, иранском, финно-угорском, праславянских и кавказских языках. Этим обстоятельством объясняется факт наличия массы тюркизмов в названных языках и обнаружение многих терминов из этих языков в наречиях тюркских народов.
Все имеющиеся научные данные археологии, этнографии, этнотопонимии и другие факты говорят о том, что Алтайское нагорье является вторичной прародиной части тюркских племен, откуда они в историческое время начинают периодические военные и мирные перемещения обратно на запад, в прежние районы своего зарождения — Приуралье и Южно-Русские степи.
Кавказ и древние пратюрки. Майкопская культура
Древнейшие пратюрки — носители ямной (курганной) культуры широко расселялись и в направлении Кавказа. Здесь они сталкивались и вступали в этнокультурные и языковые контакты с древнейшими кавказскими племенами, которым ранее не было свойственно возводить курганные насыпи над могилами усопших. Курганы на Кавказ и далее — в Переднюю и Малую Азию принесли с собой древние ямники — предки современных тюркских народов (ил. 2).
Древнейшим археологическим свидетельством проживания на Северном Кавказе пратюркских племен является так называемый Нальчикский могильник конца IV тыс. до н. э. Этот могильник располагался на территории района Затишье нынешнего города Нальчика. Материалы этого могильника показывают теснейшие связи и контакты кавказских племен и древнейших ямников. Позднее эти контакты и связи все более расширяются. Памятники древних ямников обнаруживаются у станицы Мекенской в Чечено-Ингушетии, у сел. Акбаш и Кишпек в Кабарде, у сел. Былым в Балкарии, во многих районах Краснодарского края и Карачаево-Черкесии: у станицы Келермесской, Новолабинской, хут. Зубовского, у города Усть — Джегута и т. д. Всего на Северном Кавказе древнеямных археологических комплексов насчитывается более 35.
Все имеющиеся историко-археологические и этнокультурные факты говорят о том, что древнейшие предки тюркских народов проживали на Северном Кавказе уже более 5 тыс. лет тому назад. Позднее, в середине III тыс. до н. э., на Северном Кавказе формируется так называемая майкопская археологическая культура, получившая свое название по кургану, раскопанному в нынешнем городе Майкопе. Следует отметить, что майкопская культура — это исключительно курганная культура. А курганы издревле не были присущи Кавказу, а являются этнокультурным признаком именно степей, где и зарождалась курганная культура. Майкопская культура на ранних стадиях развития еще сохраняет свои степные формы и погребальный обряд в широких грунтовых просторных ямах, обложенных деревом, с подстилкой из коры дерева, органических веществ или просто чистой желтой глины, никаких каменных сооружений в этих курганах и погребениях еще не было. И лишь позднее, в конце III тыс. до н. э., точнее, примерно в последней трети тысячелетия, в майкопской культуре наглядно просматриваются ощутимые местные черты погребального обряда, отражающиеся в различных каменных включениях в основаниях курганов, каменных подстилок в погребальных камерах, каменных кур — ганчиков внутри земляной насыпи непосредственно над могилой и т. п. Однако сама курганная форма и обряд остаются неизменными. Влияние курганников было настолько сильно, что даже такие типично кавказские погребальные детали, как каменные ящики и даже огромных размеров каменные дольмены, сооруженные из громадных валунов, сами «входили» под курганную насыпь, что особенно хорошо видно на памятниках у станицы Новослободненской.
Курганная культура со своими сцецифическими этнокультурными признаками в конце IV тыс. до н. э. начинает проникать и на территорию нынешней Турции (в Анатолию). Ранее здесь неизвестные и вновь появившиеся памятники этой культуры обнаружены в долинах реки Амук на северо-западе Сирии, у подножий гор Аманус, в турецкой провинции Хатай, в местностях Норсун-тёпе, Тёпесик, Коруку-тёпе и других областях
Турции и Сирии. Сюда проникали носители этой культур со своими традициями, скотоводческим укладом жизни, умением разводить лошадей и т. п.
Продвижение пратюрков в Закавказье и Переднюю Азию
В последней трети III тыс. до н. э. курганы начинают проникать с Северного на Южный Кавказ через Дербентский проход — территорию Дагестана и Краснодарский край. Такой путь продвижения наглядно можно проследить через курганы у станицы Новотитаревской и у сел. Утамыш в Дагестане. Археологи Закавказья единодушны в том, что курганная культура здесь появляется внезапно, как совершенно чуждая для местных племен. Эти памятники известны во многих районах Закавказья, но наиболее ранние расположены у сел. Бедени в Грузии, это и курганы Уч-тёпе в Азербайджане и др.
Отсюда — далее на юг — курганная культура достигает берегов озера Урмия в Передней Азии.
На территории Закавказья, Передней и Малой Азии древние ямники — овцеводы впервые сталкиваются с оседло-земледельческими племенами. Происходит закономерный симбиоз двух культур и смешивание различных этнокультурных течений. В результате этого симбиоза формируется новая оседло-земледельческая и скотоводческая этническая общность, сочетающая оба вида экономического уклада.
Этот симбиоз на территории Древней Месопотамии (современный Ирак) дает огромный толчок в формировании известной всему миру цивилизации шумеров (сомаров, суваров). Между носителями майкопской культуры Северного Кавказа и древними шумерами (суварами, сомарами) складываются самые тесные культурно-экономические связи, проявляющиеся в том, что в городах Шумера и майкопских курганах неоднократно обнаруживались уникальные аналогичные предметы вооружения, украшений и т. п. Важно отметить, что эти предметы встречаются в городах Шумера и северокавказских майкопских курганах, но почти не встречаются в памятниках на пространстве между ними — ни в Закавказье, ни в других районах Северного Кавказа. Взаимные контакты между майкопцами и шумерами носили характер отношений между давно оторвавшейся частью древних пратюркских племен с их прародиной на Северном Кавказе и в прилегающих степях Евразии. Создается впечатление, что эти связи носили транзитный характер, вероятно, объясняющийся близостью их традиций и культур.
Есть множество подтверждений тому, что древние шумеры были давно оторвавшейся от основной массы частью пратюркских племен. Поэтому в их языке так много тюркских терминов, о которых писали многие ученые прошлого века и сегодняшних дней.
Анализ древних шумерских клинописных текстов, проведенный многими учеными, свидетельствует о том, что большинство шумерских слов буквально повторяют общетюркские, в т. ч. и карачаево-балкарские слова, а порой и целые фразы. Например, в песне о Гильгамеше (Бильгаме — ше) встречается балкарская фраза «Союм этейик», т. е. «Совершим заклание», «Принесем жертву». Или же в надписи, посвященной божеству Гудею (удивительно напоминающее «Кудай» — бог (каз. яз.), на его памятнике XXIV в. до н. э. можно прочесть карачаево-балкарское слово «ЗАНЫМДА — ГЫННАН», т. е. «От того, кто рядом». Таких уникальных совпадений множество. Остановимся на нескольких лексических схождениях:
|
Шумерские слова
|
Карачаево-балкарские слова
|
|
Аз — мало
|
Аз — мало
|
|
Абаме — старейшина
|
Лпш — дед, аба — бабушка
|
|
Баба — предок
|
Баба — предок
|
|
Габа — грудь
|
Габара — телогрейка, бюстгаль-
|
|
тер
|
|
Даим — постоянно
|
Дайым — постоянно
|
|
Me — я
|
Мен — я
|
|
My — он
|
Бу — этот, он
|
|
Не — что
|
Не — что
|
|
Ру — забивать
|
Ур — забивать
|
|
Ер — воин
|
Эр — мужчина
|
|
Ту — родить
|
Туу — родить
|
|
Туд — родился
|
Тууду — родился
|
|
Ед — выходи
|
Ёт — проходи
|
|
Чар — круг
|
Чарх — колесо
|
|
Гуруваш — слуга
|
Карауаш — служанка, рабыня
|
|
Гаг — всаживать
|
Къакъ — всаживать
|
|
Сиг — удар
|
Сокъ — бить
|
|
Уш — три
|
Юч — три
|
|
Уд — огонь
|
От — огонь
|
|
Узук — длинный
|
Узун — длинный
|
|
Туш — опуститься, сесть
|
Тюш — опуститься
|
|
Ешик — дверь
|
Эшик — дверь
|
|
Аур — тяжесть
|
Ауур — тяжесть
|
|
Жау — враг
|
Жау — враг
|
|
Жер — место, земля
|
Жер — место, земля
|
|
Егеч — сестра
|
Эгеч — сестра
|
|
Ор — жать
|
Ор — жать (урожай)
|
|
Кал — оставаться
|
Къал — оставаться
|
|
Кыз — девушка
|
Къыз — девушка
|
|
Куш — птица
|
Къуш — птица
|
|
Уат — разбивать
|
Уат — разбивать
|
|
Жарык — светло
|
Жарыкъ — светло
|
|
Жаз — писать
|
Жаз — писать
|
|
Жюн — шерсть
|
Жюн — шерсть
|
|
Жол — дорога
|
Жол — дорога
|
|
Жыр — песня
|
Жыр — песня
|
|
Жарым — половина
|
Жарым — половина
|
|
Чолпан — звезда
|
Чолпан — звезда (Венера)
|
|
Чибин — муха
|
Чибин — муха
|
|
Ирик — валух
|
Ирик — валух
|
|
Кур — создавать
|
Къур — сооружать
|
|
Кюре — грести
|
Кюре — грести
|
|
Кору — стеречь
|
Къоруу — стеречь
|
|
Кадау — запор
|
Къадау — запор
|
|
Кан — кровь
|
Къан — кровь
|
|
Сан — число
|
Сан — число, сана — считать
|
|
Икки — два
|
Эки — два
|
|
Буз — ломать
|
Буз — ломать
|
|
Юз — рвать
|
Юз — рвать
|
|
Сюз — цедить
|
Сюз — цедить
|
|
Ез — сам
|
Ез — сам
|
|
Алты — шесть
|
Алты — шесть
|
|
Ел — смерть
|
Ел — умирать
|
|
Ул — род
|
Ул — сын, потомок
|
|
Сен — ты
|
Сен — ты
|
Таких совпадений очень много, более четырех сотен. И приведенных схождений вполне достаточно, чтобы убедиться в родстве шумерского и карачаево-балкарского-языков.
Имеющиеся в нашем распоряжении научные данные говорят о том, что расселение древних ямников-пратюрков — это распад древней тюркской общности, представленной первоначально ямно-афанасьевской этнокультурной общностью. Этот распад по хронологии совпадает с распадом древней индоевропейской общности. Взаимные столкновения в результате этих процессов и обусловливают обнаружение массы взаимопроникавших языковых схождений между тюркскими и индоевропейскими языками. Этот период истории мы склонны считать первым этапом в истории формирования карачаево-балкарского народа, протекавшим более 5 тыс. лет тому назад, на территории Северного Кавказа.